|
Текст в своей самодостаточности (чтобы не сказать: бессмысленности) противостоит любой философии, любой интерпретации. (Вспоминаются слова Л.Толстого, сказавшего однажды, что для выражения идеи "Анны Карениной" ему пришлось бы переписать свой роман слово в слово.)
Однако же самодостаточностью обладает только текст - но не его читатель. Вступая с текстом в диалог, пытаясь прочитать, присвоить, понять его, читатель вынужден искать за сухими словами протокола живое человеческое переживание, мысль, философию, если угодно.
Так в чем же смысл Акеды (жертвоприношения Исаака)? В чем состояло испытание Авраама? Может быть, как раз в том, чтобы прочитать этот текст, т.е. пережить каждое его слово и остаться при этом человеком, сохранить свой смысл, пронеся его по всем закоулкам текста, подчиняющего себе своего героя, пытающегося превратить его (героя) в бездушный механизм с казенными интонациями, в какого-нибудь религиозного фанатика-террориста или же в тупого, самодовольного чиновника-бюрократа, выполняющего спущенные сверху инструкции. И тогда читатель, желающий только - всего лишь - понять текст, обречен на то же самое испытание, ему надо, подобно Иоханнесу де Силенцио, автору кьеркегоровского "Страха и трепета", проделать вместе с Авраамом, вместо него весь путь до горы Мориа и обратно, прочитать, пережить этот текст, каждым словом его проверяя подлинность своей правоты. Но какая же философия согласится на такое испытание текстом? Скорее в угоду ей (философии) читатель разрушит текст, забудет его, перепишет заново.
Впрочем, переписывать текст можно по-разному. Есть переписчики - разрушители, рассматривающие чужую рукопись как черновик, пишущие прямо по нему, потому что бумаги не хватило, заслоняющие собой предшественников, и есть - сохраняющие, видящие свою задачу в передаче старого текста как он есть и для этого только оставляющие в тексте свои пометки.
Конечно, еврейские комментаторы прочитывали, осмысляли, переписывали текст Акеды множеством разных способов, и некоторые из них могут быть названы философскими. Однако заслуживает внимания тот факт, что самый главный, самый классический (если можно так выразиться) комментарий Раши избегает ставить общие, мировоззренческие вопросы и, тем более, давать на них ответы.
Вот Раши объясняет, что гора Мориа находится в Иерусалиме, что акеда - это связывание рук и ног вместе за спиной, а не как-нибудь иначе; вот он разворачивает монолог "Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака" (Быт. 22:2) в диалог между Богом и Авраамом:
- Возьми сына твоего!
- Два сына есть у меня.
- Единственного твоего!
- Этот единственный у своей матери и тот единственный у своей.
- Которого ты любишь!
- Обоих я люблю, - говорит Авраам, и только тогда следует окончательное, не оставляющее неясности определение:
- Исаака!
Можно ли понять этот диалог как проявление человеческой слабости Авраама, как раскрывающую его чувства попытку спасти Исаака, подставив вместо него нелюбимого Измаила? Нет, отвечает нам рабби Лива бен Бецалель (Махарал из Праги), тексты книги Бытия не подтверждают это предположение, скорее наоборот, Авраам действительно любит Измаила и в его словах нет, не дай Бог, лицемерия и притворного непонимания.
И вот, весь этот диалог, древний мидраш, который Раши включает в свой комментарий, уже не кажется нам объяснением, непосредственно воспринимаемой мыслью, напротив, он как бы присоединяется, прилепляется к тексту, приобретает его главное качество - быть непонятным, способность удивлять, испытывать своего читателя. Зачем же нужно добавлять к тексту, и без того запутанному, трудному для понимания, новые ничего не объясняющие слова? Очень просто, отвечает Раши, "чтобы позволить ему [Аврааму] полюбить заповедь (соблазнить заповедью?) и дать ему награду за каждое отдельное слово". И далее, объясняя расплывчатость выражения "на одной из гор" (Быт.22:2), Раши пишет: "Всевышний удивляет праведников, а потом раскрывает им [подробности], и все это - чтобы увеличить их награду".
Пожалуй, последнее высказывание Раши могло бы сойти за объяснение смысла, за философию или хотя бы за филологию, за объясняющее обобщение нескольких встречающихся в Торе неопределенных указаний, как, например, "Иди себе из земли твоей... в землю, которую Я тебе укажу" (Быт.12:1) - не слишком точный адрес. Действительно, в перечисленных нами случаях (так же, как и во многих других) последовательность событий именно такова: интригующая неопределенность указаний - словно блеснувшая из-под одежды нагота - соблазняющая праведника, вызывающая - естественно - удивление и любовь, затем - раскрытие подробностей, вызванное активными действиями праведника (спросить - о каком сыне речь? пойти и смотреть - какая гора? какая земля?), и, наконец, как награда - пройденное испытание, выполненная заповедь. Если же заповедь раскрыта сразу и во всех деталях (как нагота, лишенная одежды вовсе), это смущает праведника - ведь Тора еще не дана ему как знак союза, брак еще не заключен - и пугает, отталкивает его (см. Раши там же), лишая награды за выполнение заповеди.
Вот эта мысль, хотя и выраженная в антропоморфных, как сказал бы Маймонид, образах (удивляет - раскрывает - увеличивает награду), могла бы рассматриваться как научное, философское обобщение эмпирического материала (текста), и - с оттенком некоторой снисходительности (или зависти) к Средневековью с его непреодоленным еще синкретизмом - сопоставляться с современными филологическими, психологическими и философскими концепциями, интерпретироваться в их терминах. Могла бы, если бы действительно была мыслью, а не действием, если бы она функционировала в еврейской традиции как идея, которую можно подтвердить или оспорить, а не как текст, называемый "комментарий Раши", подтверждаемый или опровергаемый не только и не столько умозрением, сколько действием, обладающий явно выраженным свойством перформативности, т.е. совершающим то самое действие, о котором он говорит. Вот, скажем, мы выполняем запопведь изучения Торы и мы достаточно праведники, чтобы соблазниться неясностью указания "на одной из гор". И тогда мы переходим от Письменной Торы к Торе Устной, к словам Бога живого, сказанным также на горе Синай, но записанным, при-открытым нам позже, в комментарии Раши, и читаем, узнавая новые подробности: "Всевышний удивляет праведников, а потом раскрывает им [подробности], и все это - чтобы увеличить их награду". Если наша праведность на этом кончается и новый соблазн не касается нас, мы получаем свою награду и идем дальше, если нет - разыскиваем новые подробности, и так далее.
Перформативность высказывания, превращение его в текст, в действие, делает его ненаучным, не подлежащим оценке в категориях истина - ложь. Но, возможно, здесь мы имеем дело с особым случаем перформатива, поскольку его эффективность, сила, дающая ему право быть действием, находится в галуте, в изгнании вместе с Израилем, и потому нуждается в доказательстве, в "утешении философией". А мы оставим на время, до начала регулярных занятий так и не пройденный нами лабиринт еврейского комментария и выйдем на вольные просторы философской мысли. Но вначале позаботимся о средстве передвижения по этим просторам.
Какое слово в тексте Акеды ближе всего к философской терминологии? Всякий человек, знакомый с ивритом, без труда ответит на этот вопрос. Конечно, это хамор - осел. Дело в том, что слово хамор ( ) состоит из тех же букв, что и хомер ( ) состоит из тех же букв, что и хомер ( ) - материя. Этот удивительный факт оставил неизгладимый след в еврейском мироощущении. Так, например, в комментариях и мидрашах прослеживается тенденция представлять, репрезентировать отношения человека с материальным миром его отношениями со своим ослом. Для еврейского мудреца и праведника осел является, как правило и в первую очередь, средством передвижения, совершенно послушным его воле. Для праведника управлять ослом так же просто, как совершать небольшие чудеса: посидеть в горящей печи, воскресить нечаянно убитого товарища, разбить вражеское войско, бросая в него горстями землю. Такое впечатление, что проблема взаимоотношения духа с материей полностью решена еврейскими мудрецами, им остается только решать, когда сесть и куда направить своего осла, где остановиться и слезть с него, и с этой задачей они справляются с большим или меньшим успехом, как, например, рабби Тарфон, слезающий со своего осла в соответствии с установлениями школы Шаммая, рабби Шимон бен Элазар, встретивший и оскорбивший уродливого человека, и покинувший своего осла, дабы вымолить прощение, и многие другие. Отношения праведников со своими ослами просты и впечатляющи, как решение "основного вопроса философии", как рассечение гордиева узла. Другое дело - не праведник, хотя и великий пророк, хотя и сказавший Израилю поэтичнейшее благословение, - Билам (Валаам). Его отношения со своей ослицей сложны и запутаны, можно даже сказать - интимны. Материальный мир - почет, власть, богатство, с детства знакомая ослица влекут к себе Валаама, подобно миражам, отвлекают его внимание от реальных опасностей, которые таит в себе каждый шаг в лабиринте еврейского текста, они заставляют его кружить по холмам вокруг еврейского стана, вовлекают его в свой круговорот и приводят к гибели в 31-й главе книги Чисел. Что ж, средство передвижения должно быть простым и надежным, и не склонным к истерическим аффектам. Если такого нет, лучше ходить пешком... ) - материя. Этот удивительный факт оставил неизгладимый след в еврейском мироощущении. Так, например, в комментариях и мидрашах прослеживается тенденция представлять, репрезентировать отношения человека с материальным миром его отношениями со своим ослом. Для еврейского мудреца и праведника осел является, как правило и в первую очередь, средством передвижения, совершенно послушным его воле. Для праведника управлять ослом так же просто, как совершать небольшие чудеса: посидеть в горящей печи, воскресить нечаянно убитого товарища, разбить вражеское войско, бросая в него горстями землю. Такое впечатление, что проблема взаимоотношения духа с материей полностью решена еврейскими мудрецами, им остается только решать, когда сесть и куда направить своего осла, где остановиться и слезть с него, и с этой задачей они справляются с большим или меньшим успехом, как, например, рабби Тарфон, слезающий со своего осла в соответствии с установлениями школы Шаммая, рабби Шимон бен Элазар, встретивший и оскорбивший уродливого человека, и покинувший своего осла, дабы вымолить прощение, и многие другие. Отношения праведников со своими ослами просты и впечатляющи, как решение "основного вопроса философии", как рассечение гордиева узла. Другое дело - не праведник, хотя и великий пророк, хотя и сказавший Израилю поэтичнейшее благословение, - Билам (Валаам). Его отношения со своей ослицей сложны и запутаны, можно даже сказать - интимны. Материальный мир - почет, власть, богатство, с детства знакомая ослица влекут к себе Валаама, подобно миражам, отвлекают его внимание от реальных опасностей, которые таит в себе каждый шаг в лабиринте еврейского текста, они заставляют его кружить по холмам вокруг еврейского стана, вовлекают его в свой круговорот и приводят к гибели в 31-й главе книги Чисел. Что ж, средство передвижения должно быть простым и надежным, и не склонным к истерическим аффектам. Если такого нет, лучше ходить пешком...
Но вернемся к Аврааму, седлающему своего осла. Вот он въезжает на нем в Иудейские горы, во главе длинной вериницы мудрецов и праведников, путешествующих на своих ослах по страницам еврейских книг. Где-то вдалеке все ищет и никак не может найти своих потерявшихся ослиц будущий царь Шауль, а навстречу Давиду спускается по склону горы, сопровождая груженных хлебом ослов, красавица Авигайль, и старый погонщик - араб предлагает на рынке ослов: на расстояние десять фарсангов - за одну зузу, на одиннадцать - за две.
Впереди, рядом с Авраамом, едет Моше рабейну - учитель наш Моисей, посадивший на ослика всю свою семью, а замыкает караван, совершающий свой нескончаемый переход, мелех а-машиах - долгожданный царь Мессия. Вот эти трое, говорит мидраш, едут на одном и том же осле, специально сотворенном для этой цели в первые дни Творения. Кто же этот осел - долгожитель? Да, конечно, говорит Махараль из Праги, это наш материальный мир, не больше и не меньше!
И снова вернемся к Аврааму и попытаемся, наконец, понять его внутренний мир. Может быть, он похож на кьеркегоровского Авраама, на рыцаря веры, в молчании совершающего свой одинокий подвиг? Вот он подъезжает к назначенному месту, слезает со своего осла (теперь уже нам понятно, как значительна эта деталь) и поднимается вместе с сыном на гору. Вот он, звездный час экзистенциального героя, рыцаря веры, порвавшего цепи материальной необходимости, вышедшего из-под власти всеобщего, отказавшегося от любых оправданий, и в качестве единичной личности, принявшей на себя всю полноту ответственности, представшего перед Абсолютом! И, к нашему облегчению, все завершается благополучно - жертва не нужна, экзистенциальный герой победил, он обрел веру и сохранил сына. "Не заноси руки твоей на отрока и не делай ему ничего", сказал ангел. Так зачем же теперь резать барана?!
Может быть, это жертва после испытания, выражение чувств Авраама (все-таки он очень древний, хотя и рыцарь веры) - признательности за спасение сына и дарование веры? Но тогда что значат слова "принес его во всесожжение вместо сына"? И почему именно после этой жертвы вторично взывает к Аврааму ангел и благословляет его за то, что "не пожалел сына своего", как будто не баран был зарезан?
И совсем уже плохо приходится рыцарю веры в комментарии Раши. "Не заноси руки твоей" - чтобы зарезать, уточняет Раши, и далее:
Сказал ему [Авраам]:
- Что же, напрасно я пришел сюда? Сделаю ему рану и выпущу немного крови.
- Не делай ему ничего (меума), [т.е.,] не наноси ему увечья (мум). (Снова монолог ангела, развернутый в диалог.)
А когда Авраам приносит в жертву барана тахат бно - "вместо сына", Раши вкладывает в его уста такие слова: "Да будет воля Твоя, чтобы сталось это как будто бы с сыном моим; как будто сын мой зарезан, как будто его кровь брызнула [на жертвенник], как будто он освежеван, как будто бы он сожжен и сделался пепел". Что это значит? Что делает здесь рыцарь веры?
Кто же он, Авраам авину - отец наш Авраам? Просто еврей, говорит рав Узи Кольхаим (я рад, что могу произнести здесь это имя, рядом с другими, более известными именами), просто еврей, выполняющий заповедь, вообще любую заповедь, не обязательно такую кровавую, но всегда такую же странную, например, заповедь изучать Тору, заповедь слушать голос шофара. Это еврей Авраам, выполняющий заповедь, как она должна быть выполнена, как она сказана - 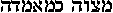 , заповедь, ставшую прочтением Торы, возвращающую действительности текста кусочек материального мира, послуживший материалом для ее выполнения. , заповедь, ставшую прочтением Торы, возвращающую действительности текста кусочек материального мира, послуживший материалом для ее выполнения.
И вот Авраам возвращается к своему ослу, и его легко обвинить, и легко провозгласить героем. Трудно, почти невозможно, только одно - понять, потому что нет ничего более далекого от философии, от умозрения, чем заповедь, хотя "не на небе она... и не за морем" (Втор. 30:12-13), а здесь, перед глазами, в тексте Торы.
Конечно, есть объяснения всему, что случилось с Авраамом. Рав Кук, например, говорит, что Аврааму нужен был какой-то предмет, вещь, действие, которые могли бы стать сосудом, вместилишем великого света, притянутого Акедой. Баран, жертвоприношение стали этим сосудом и сохранили этот свет для будущих поколений, и на горе Мориа был построен Храм, и туда приходили евреи в праздники паломничества, о чем и сказано "на горе Господней усмотрится" - или "явится" ( ). Если это объяснение в терминах каббалы кажется кому-то философским - что ж, я не буду возражать. Но даже Рамбам (Маймонид), единственный, кажется, человек, к которому в самом деле применимо определение "еврейский философ", поскольку он, Маймонид, был великим раввином и великим философом, даже он разделял области заповеди и философии, усматривая между ними еще одну, промежуточную ступень - пророчество. И посему текст Акедат Ицхак остается загадкой, испытанием для философии, может быть, до тех пор, пока земля российская не породит здесь, в Петербурге, своих собственных, "Маймонидом" же дипломированных Маймонидов. ). Если это объяснение в терминах каббалы кажется кому-то философским - что ж, я не буду возражать. Но даже Рамбам (Маймонид), единственный, кажется, человек, к которому в самом деле применимо определение "еврейский философ", поскольку он, Маймонид, был великим раввином и великим философом, даже он разделял области заповеди и философии, усматривая между ними еще одну, промежуточную ступень - пророчество. И посему текст Акедат Ицхак остается загадкой, испытанием для философии, может быть, до тех пор, пока земля российская не породит здесь, в Петербурге, своих собственных, "Маймонидом" же дипломированных Маймонидов.
|
![]() (иври) - еврей, перешедший, пришедший с другого берега, и латинское universitas - совокупность, объединение, происходят оба от глаголов, выражающих движение: лаавор - проходить, переходить (из одного места в другое), и vertor - вращаться. Слова, пришедшие из разных языков, выражают к тому же принципиально разные понятия: единое, всеобъемлющее вращение, unus versus, не имеющее ни начала, ни конца, все и всех включающее в свой универсальный, всеобщий круговорот, и, с другой стороны, переход, пересечение, движение из начала в конец, полагающее границы и различия уже самим фактом своего существования.
(иври) - еврей, перешедший, пришедший с другого берега, и латинское universitas - совокупность, объединение, происходят оба от глаголов, выражающих движение: лаавор - проходить, переходить (из одного места в другое), и vertor - вращаться. Слова, пришедшие из разных языков, выражают к тому же принципиально разные понятия: единое, всеобъемлющее вращение, unus versus, не имеющее ни начала, ни конца, все и всех включающее в свой универсальный, всеобщий круговорот, и, с другой стороны, переход, пересечение, движение из начала в конец, полагающее границы и различия уже самим фактом своего существования.