Моя первая встреча с Левиафаном случилась благодаря замечательному русскому писателю Александру Вельтману. Этот писатель, ныне почти забытый, во-первых, действительно замечательный, потому что Пушкин, Белинский и Лев Толстой заметили его и оценили, а во-вторых, действительно русский, потому что отец его был шведом на русской службе, а вовсе не евреем, как можно было бы подумать, глядя на его фамилию. Я сначала именно так и подумал, и был немного разочарован, узнав свою ошибку. Но все равно мне было очень приятно читать Вельтмана и чувствовать себя настоящим знатоком великой русской литературы, который прочитал уже писателей первой величины и теперь принялся за второстепенных, чтобы увидеть грандиозную и любимую картину родной словесности во всей ее полноте, проследить тончайшие ниточки, ведущие от моего Вельтмана к Достоевскому, А.Белому и даже к М.Булгакову.
Так вот, я читал роман "Сердце и Думка", и уже летел вместе с Совой Савельевной, птицей-думкой очарованной девушки Зои Романовны, летел от берегов Днепра в холодную Северную столицу, и вдруг... Даже я вздрогнул от неожиданности, а Сова Савельевна, как утверждает Вельтман, просто испугалась, когда впорхнула в окошко на чердаке и обнаружила там ученого еврея в очках, читающего при свете сального огарка книгу, в которой говорится о гигантской рыбе Левиафане - что в дни Мессии ее приготовят и подадут на огромном блюде всему еврейскому народу,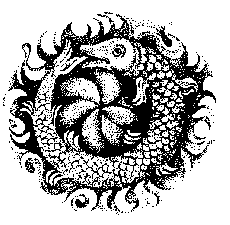 и еще о великом быке и особой птице. Конечно, Сова испугалась этого странного человека, так же, как и он ее. А мне стало обидно, что этот еврей продолжает читать свой Талмуд, не взирая на цветение русской культуры за окном; а его доверие к фантастическим, оторванным от жизни вымыслам показалось мне просто бесстыдным. Но неужели ради кусочка этой мистической фаршированной рыбы, ради надежды на грядущее торжество он способен отказаться - сейчас и здесь - от Пушкина и Гоголя, от своей доли в их наследии, от участия в общем деле? Ведь он отделяет себя этим от настоящей жизни, не замечает ее и, может быть, даже презирает с высоты своего абсолютного знания - так, как будто бы он, еврей, а не русские поэты, находится в центре мира, как будто ему принадлежит будущее и он, ничтожный, владеет истиной!
и еще о великом быке и особой птице. Конечно, Сова испугалась этого странного человека, так же, как и он ее. А мне стало обидно, что этот еврей продолжает читать свой Талмуд, не взирая на цветение русской культуры за окном; а его доверие к фантастическим, оторванным от жизни вымыслам показалось мне просто бесстыдным. Но неужели ради кусочка этой мистической фаршированной рыбы, ради надежды на грядущее торжество он способен отказаться - сейчас и здесь - от Пушкина и Гоголя, от своей доли в их наследии, от участия в общем деле? Ведь он отделяет себя этим от настоящей жизни, не замечает ее и, может быть, даже презирает с высоты своего абсолютного знания - так, как будто бы он, еврей, а не русские поэты, находится в центре мира, как будто ему принадлежит будущее и он, ничтожный, владеет истиной!
И неожиданно для самого себя я посмотрел вокруг глазами того испуганного еврея и увидел одни только недостатки, потому что не было здесь ни готового к употреблению Левиафана, ни чудовищного быка, пожирающего тысячу гор в один присест, ни птицы, яйцо которой поломало целый кедровый лес, а была только жалкая, никому не нужная, но от этого еще более любимая, нуждающаяся в моей защите и поддержке русская литература. И тогда я написал такое стихотворение:
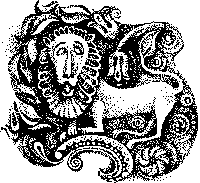 Моим учителем был Игорь, наш университетский гений. Я говорю был, потому что сейчас он живет в Израиле, а университетским я его назвал не потому, что это граница его гениальности, я думаю, что она проявится и в других местах, но в университете она уже проявилась точно. Под руководством Игоря я научился читать
Моим учителем был Игорь, наш университетский гений. Я говорю был, потому что сейчас он живет в Израиле, а университетским я его назвал не потому, что это граница его гениальности, я думаю, что она проявится и в других местах, но в университете она уже проявилась точно. Под руководством Игоря я научился читать 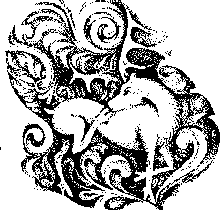 Меня иногда спрашивают, где сейчас живет Левиафан. И я задумался: нужно ли мне знать это, хочу ли я встретиться с ним? Зачем, что могу я сказать ему, потерявшему свою подругу - единственное, в чем он нуждался, - еще в начале творения? Неисправимый однолюб, он сотворен таким, он не похож на нас, потому что нам нужно гораздо больше, и у нас уже есть много вещей, до которых ему нет дела. Да и мало ли животных на свете? Когда я надеваю тфиллин, сделанные из грубой кожи, я твердо знаю, что они не имеют никакого отношения к Левиафану. Что общего между нами, чем я мог бы занять его при встрече? Разве что погладить, как котенка, почесать за ухом. Но зачем это ему, от века знающему тяжелую и ласковую руку Создателя?
Меня иногда спрашивают, где сейчас живет Левиафан. И я задумался: нужно ли мне знать это, хочу ли я встретиться с ним? Зачем, что могу я сказать ему, потерявшему свою подругу - единственное, в чем он нуждался, - еще в начале творения? Неисправимый однолюб, он сотворен таким, он не похож на нас, потому что нам нужно гораздо больше, и у нас уже есть много вещей, до которых ему нет дела. Да и мало ли животных на свете? Когда я надеваю тфиллин, сделанные из грубой кожи, я твердо знаю, что они не имеют никакого отношения к Левиафану. Что общего между нами, чем я мог бы занять его при встрече? Разве что погладить, как котенка, почесать за ухом. Но зачем это ему, от века знающему тяжелую и ласковую руку Создателя?